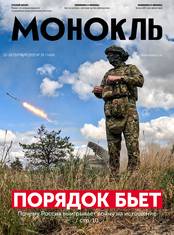Андрей Бакланов: – Для того, чтобы было более понятно, с чем мы имеем в данном случае дело, надо представить процесс системно. Потому что у переговоров бывает много отличающихся друг от друга форматов и их результаты оказываются самые различные: какие-то заканчиваются сразу подписанием документа, что-то дольше готовят, какие-то годами длятся, некоторые оканчиваются безрезультатно.
Когда речь идет о переговорах по военно-политическим вопросам (войны, конфликты, кризисы, пограничные стычки и т. п.), то их можно условно разделить на четыре основные формата, по результатам которых появляются письменные соглашения, договоры и тому подобные итоговые документы.
Начнем с первого формата, самого «простого». Если военные действия заканчиваются очевидной, ясной как для воюющих армий, так и для всех прочих сторон военной победой, то итоговых переговоров, в сущности, не бывает, речь идет о техническом «обрамлении» итогов конфликта (войны) в виде акта о капитуляции.
Так как это было в 1945 году, когда Георгий Жуков подписывал по указанию руководства Советского Союза акт о безоговорочной капитуляции Германии: там никакого переговорного процесса не было, была политико-протокольная подготовка торжественного акта подписания этого документа, проигравшей стороне просто зачитывались готовые формулировки, связанные с техническими деталями проведения церемонии.
Второй формат – это когда нет капитуляции, нет ясной и однозначной победы какой-либо из сторон, но есть понятные сторонам итоги конфликта и общее ощущение патовой ситуации, когда надо прекращать военные действия и подписывать документ, который дал бы возможность прекратить кровопролитие, не ведущее к победе какой-либо из сторон.
В таком случае проводятся переговоры, иногда более, иногда менее длительные, они проходят для того, чтобы составить компромиссный вариант, который устроит каждую из сторон. Такой вариант для этих сторон малопривлекателен, он носит вынужденный характер. Итоговой документ может «сработать», он может обеспечить прекращение военных действий на длительный период времени. Но гарантий такого развития событий, как правило, не бывает, поэтому ситуация может привести к возобновлению конфликта. Однако с правовой точки зрения в этом случае итоговые соглашения имеют все признаки международно-правового документа и они с точки зрения международного права должны выполняться. В ряде случаев для придания дополнительного «веса» и авторитета у такой договоренности могут быть внешние «гаранты» - государства или международные организации.
Еще одни тип переговорного процесса – выход на длительное прекращение военных действий. Это то, что было в 1949 году на Ближнем Востоке, когда Израиль с одной стороны и арабские страны (Египет, Сирия, Ливан, Иордания) с другой, по итогам войны 1948-1949 годов договорились о прекращении военных действий. Это не был договор о мире, затрагивались только вопросы размежевания непосредственно на линии военного соприкосновения, был целый ряд приложенных карт и достигнутых взаимных договоренностей в отношении того, как это будет произведено, на каких рубежах останавливаются стороны и так далее. И это соглашение с 1948 года длительное время, что называется, «работало».
И, наконец, самый упрощенный вариант, это гуманитарные, краткосрочные договоренности о временном, как правило, весьма сжатом по срокам, прекращении военных действий. Иногда такая акция предпринимается в связи с праздником, иногда такие договоренности вырабатываются для организации эвакуации раненых и так далее. Во время конфликта на Украине такие временные соглашения тоже были применены, и не раз.
«Монокль»: – Вписывается ли стамбульский переговорный процесс в эту систему за пределами гуманитарного трека?
— По-настоящему, те переговоры, которые организуются в Стамбуле, не вписываются ни в одну из этих четырех наиболее распространенных схем. С точки зрения теории международных отношений, теории переговорного процесса, это феномен достаточно исключительный.
Исключительный, потому что он имеет признаки договоренности гуманитарного характера, временного характера, и стороны пока не определили его конечную цель: что должно быть итогом переговорного процесса, выход на какой документ. Пока они обмениваются пониманиями, что каждая сторона подразумевает под итогами переговоров, и не оповещают прессу в отношении точного содержания такого рода документа.
Сейчас процесс переговоров в Стамбуле идет по двум направлениям. Первое — это попытка определить возможности сближения позиций по вопросам существа, понять, есть ли вообще предмет возможных договоренностей. Может быть, реальной базы для договоренностей и не имеется с учетом того, что существует территориальный аспект конфликта, который стороны понимают прямо противоположно. Речь идет о Крыме и четырех субъектах, которые уже вошли в состав Российской Федерации.
Украинская сторона, нынешняя власть в Киеве, не пойдет на подписание документа, в котором было бы закреплено признание новых территориальных реалий. А для нас этот вопрос закрыт, потому что Крым и четыре новых субъекта уже являются частью Российской Федерации согласно действующей Конституции, основного закона РФ. Поэтому возможность подписания итогового документа крайне сомнительна. И сейчас путем обмена меморандумами проясняется сама теоретическая возможность этого.
Параллельно идет совершенно другой процесс, просто в одном и том же месте они происходят – это решение ряда гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, телами погибших и так далее. Но это совсем другой переговорный формат, и такое между воюющими сторонами бывало и раньше, когда вообще не шла речь о каких-либо документах политического характера.
Для Киева началась подготовка нового сценария
— Не избежать стандартного в такой ситуации вопроса: последует ли четвертый раунд? Если да, какой видится новая встреча, каковы перспективы диалога сторон?
— Как специалист могу изложить только свою собственную точку зрения: я вообще не вижу перспектив у переговорного процесса в «вопросах существа» на данном этапе.
—Что препятствует налаживанию переговорного процесса по существу?
— Препятствуют сами по себе реальные позиции сторон, которые не имеют точек пересечения и возможности достижения компромисса по наиболее принципиальным вопросам, по которым должна быть договоренность. Например, как я уже отмечал, территориальному. При наличии нынешнего режима на Украине и данного состава переговорщиков, представляющих позицию Киева, я полагаю, что достижение надежных договоренностей невозможно, а достижение «ненадежных» договоренности мы, что называется, «уже проходили». Вспомним судьбу Минских соглашений, которые оказались попыткой обмануть нас. И сегодня встает вопрос: как можно «состыковать» наши требования «денацификации» режима в Киева с нахождением у власти неонацистов?
— Все ограничится вторым направлением, гуманитарным диалогом, обменами пленными и так далее?
— Если в позициях сторон не произойдут какие-то изменения, или если не изменится режим в Киеве, то дело пойдет так, как оно, собственно говоря, сейчас и идет. Посмотрите, что происходит. Первое направление пока пробуксовывает, а второе направление достигло важных, осязаемых рубежей с точки зрения обменов военнопленными и обменов телами.
То есть, здесь налицо два направления, которые имеют совершенно разные результаты. И второе будет продолжаться, пока не иссякнет материя, о которой мы говорим. Потому что обмены уже проходят, сейчас будет уже уменьшаться количество включаемых в обмены лиц. Как только основная часть задач гуманитарного характера будет выполнена, это направление будет «затухать».
Есть еще одно обстоятельство, которое нужно иметь в виду. Это – возможная «подмена» режима в Киева, внешняя передача власти «новым» людям, которые будут вести ту же антироссийскую политику, но иными, более скрытыми, прямо скажем, «коварными» методами. Судя по всему, подготовка такого сценария уже началась.
Что стоит за заявлениями Трампа?
— При этом хотелось бы упомянуть внешних акторов, влияющих на стамбульский диалог– например, главу Белого дома Дональда Трампа, который регулярно делает заявления по теме урегулирования украинского конфликта. Какова может быть его роль и роль других внешних игроков в продолжении – или, может быть, и в прогрессе переговорного процесса?
— Я думаю, что роль внешних «игроков» может быть только в разной степени негативной. Европа и Америка находятся на стороне Киева. Заявления Трампа с точки зрения исторического процесса выглядят ярчайшим проявлением политического лицемерия.
Украинский кризис последовательно готовился американцами в течение десятилетий с использованием огромного количества материальных и финансовых средств. Подпитывались организации националистов, они получали помощь специальных служб и так далее.
Теперь же, когда этот проект уже начал функционировать и работать против России, страна, которая в значительной степени все это готовила, начинает говорить о «мирном процессе».
Как можно воспринимать подобного рода «мирную инициативу», исходящую от страны, которая все сделала для того, чтобы на Украине была война? Насколько нужно быть наивными людьми, не знать историю, не понимать природу американской внешней политики, для того, чтобы всерьез воспринимать демагогию Трампа?
— С такими, что называется, «помощниками» о каких-то плодотворных переговорах по первому направлению речи явно не идет.
— Еще раз скажу: вы меня спрашиваете как специалиста, я 50 лет этими делами занимаюсь, опыт определенный есть. На моих глазах нередко по сложным проблемам бывали иллюзии, в отношении этих иллюзий была борьба. Побеждали, слишком часто, люди, которые любят иллюзии, доверяют иллюзиям, любят «благостные», оптимистично звучащие доклады. Из двух альтернатив нередко выбирается та, которая смотрится на данный момент «приятнее», а о долговременных последствиях мало кто думает. Вот с учетом этой точки зрения, опыта прошлых лет, других конфликтов я и даю свои ответы.
Два примера
— Раз уж мы заговорили про историю, то, хотя стамбульский переговорный процесс едва ли имеет прямые исторические аналогии, можно ли опереться на какие-то удачные переговоры с участием России? Или иметь в виду отрицательный опыт, чтобы избежать повторения ошибок?
— Если мы говорим про отрицательный опыт, то мне приходят на память Хасавюртовские соглашение, которые, кстати в тот период получали высокую оценку некоторых политических деятелей в Российской Федерации, эти сомнительные договоренности представлялись как пример «умелой договоренности» для того, чтобы «предотвратить войну». Вот только потом оказалось, что это неудачный «мир», потому что он привел лишь к ожесточению ситуации. И после этого конфликт был урегулирован на совершенно других основаниях.
С точки зрения подготовки договоренностей, в качестве примера того, как в принципе дела делаются, можно посмотреть выработку Хельсинского заключительного акта, который был подписан 1 августа 1975 года. Там было три этапа подготовки этого документа, которые охватили несколько лет.
На первом этапе в Хельсинки в июле 1973 года собрались министры иностранных дел, приняли решение готовить развязку по важнейшим вопросам в Европе, разбив их на три направления: политическое и военное, торгово-экономическое и гуманитарные аспекты.
Потом в Женеве в течение длительного периода были встречи, где согласовывалась каждая формулировка, затем, на третьем этапе подготовки Совещания, лидеры стран-участниц подписали Заключительный акт в августе 1975 года в Хельсинки.
Итоговая бумага вырабатывалась очень основательно, сложно, долго, с детальной фиксацией текущих достижений. Хотя Запад от нас получил много компромиссов, в целом итоговый документ был для нашей страны по основным параметрам — признание послевоенных реалий в Европе — выгодным. Так что в качестве позитива можно привести этот пример подготовки мероприятий и ответственных документов.