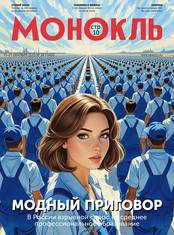В декабре 2022 года в России, казалось бы, учли пожелания общественности, Русской православной церкви (РПЦ), Совета по правам человека (СПЧ) и согласились соблюдать базовые гражданские права — вышли поправки к Федеральному закону № 572, провозгласившие запрет на принудительный сбор биометрии.
Однако внедрение в самые разные сферы жизни Единой биометрической системы (ЕБС) идет сегодня невиданными до того темпами. Если раньше отпечатки пальцев и сканы лица требовались лишь в исключительных случаях, то теперь биометрия становится частью повседневности: удаленные сделки с недвижимостью, телемедицина, покупка энергетиков на маркетплейсах. Даже учащиеся и преподаватели некоторых российских школ уже сегодня подтверждают свое право попасть в учебное заведение путем сканирования лица. А, например, при входе в личную электронную почту без указания пароля вам вполне могут предложить идентификацию по отпечатку пальца или физиономическим чертам.
«По лицу» можно также пройти на любую станцию метрополитена Москвы, предъявив этот уникальный «документ» на входе: программа Face Pay работает на всех станциях столичной подземки и в метро Казани. Тестирование подобной системы распознавания лиц проходит в Санкт-Петербурге. Никого сегодня не удивишь и предложением расплатиться улыбкой в супермаркете или сдать отпечатки пальцев для оформления загранпаспорта нового образца. И это далеко не полный перечень повседневных ситуаций, в которых либо невозможно обойтись без сдачи биометрии, либо получить желанную скидку на приобретаемую услугу.