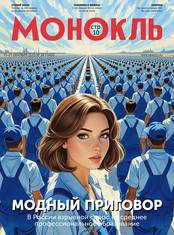Все больше людей используют тексты, написанные искусственным интеллектом. Открытой статистики на этот счет не существует (данные засекречены разработчиками и операторами связи), но известно, что, например, в 2024 году мобильный трафик и аудитория сервисов ИИ в России выросли в пять раз. Прошлогоднее исследование компании «Яндекс» показало: к нейросетям для генерации текста обращается треть пользователей Рунета, причем доля аудитории от 45 до 54 лет и старше 55 лет растет.
Есть и яркий пример «генерационного бума»: в апреле этого года газета «Краснодарские известия» выпустила номер, полностью написанный ИИ. Перед началом работы нейросеть обучали на десятках журналистских материалов, чтобы адаптировать к стилю издания. В итоге в номере появились такие материалы, как статьи «Сгенерированный судья будущего» и «Они заменят вас на работе».
Давайте разберемся в этих предвестниках «креативной революции»: действительно ли искусственный интеллект способен писать тексты или даже мыслить как человек?
Банальность или странный креатив
Для начала стоит успокоиться: в отличие от людей ИИ не понимает слова, которые пишет, а просто отыскивает закономерности в миллионах текстов. В основе нейросети лежит языковая модель — алгоритм, обученный на большом количестве текстов. Опираясь на заданную фразу — контекст, — модель предсказывает наиболее логичную последовательность слов. Ключевая задача, которую при этом решают разработчики, — сделать результат максимально приближенным к написанному человеком.