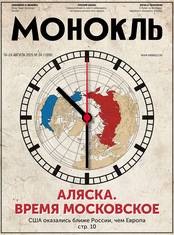В эпоху, когда диалог между Москвой и Вашингтоном тонет в потоке взаимных обвинений, а дипломатия сводится к колкостям и мемам, российско-американские отношения переживают самый глубокий кризис в своей истории. США низводят Россию до карикатурного злодея, объясняя все происходящее тремя «П»: Путин, пропаганда, параноидальная экспансия. Россия же отвечает образом Америки с двумя «Д»: доминирование и двойные стандарты. Период Трампа пока лишь короткий миг для перспективы потепления отношений.
Главный вызов сегодня не в противостоянии двух великих держав, а в утрате языка для диалога. После триумфа в холодной войне американские эксперты по России, похоже, подменили анализ проецированием собственных фантазий и страхов. Академическая лень и убежденность в собственном превосходстве привели к тому, что в США началось «изучение России без России». Фразу, которую ввел в обиход Стивен Коэн, один из самых ярких советологов, до последних дней жизни пытавшийся убедить американское руководство в необходимости диалога с постсоветской Россией, а не высокомерного нравоучения. Но Коэн не был услышан. Впрочем, как и многие сторонники трезвого изучения США в России.
В попытке прорваться сквозь шум пропаганды по обе стороны Атлантики мы решили поговорить с профессором Калифорнийского университета в Сан-Франциско Андреем Цыганковым. Его работы по российско-американским отношениям позволяют избавиться от затасканных клише, мешающих глубокому пониманию причин нынешнего кризиса. Это интервью не попытка найти виноватого, а лишь желание понять: есть ли в принципе у России и США возможность нормального диалога?
Эхо холодной войны
— В чем, на ваш взгляд, фундаментальное различие между советологией и современным изучением России в США?
— Среди советологов было немало попыток осмыслить Россию, были постоянные споры, дискуссии. Мейнстрим постоянно дебатировал роль Советского Союза, пытался понять, какой должна быть американская политика в отношении Москвы. Например, одной из книг Стивена Коэна была «Переосмысливая советский опыт», где он в полемической форме вел дискуссию с более консервативными представителями советологического мейнстрима и выступал за то, чтобы налаживать диалог с Советским Союзом.
— Как вообще в США появилась советология?
— Она родилась из стремления прежде всего понять источники советской угрозы. Главные вопросы, на которые для себя отвечали советологи: за что будет воевать Россия? какие у нее геополитические интересы? какую идеологию она будет отстаивать?
И как строить отношения с этой угрозой. Надо ли исходить из того, чтобы подорвать ее изнутри, или следует выстраивать диалог. Коэн выступал за диалог. А его оппоненты исходили из того, что Россия либо в принципе недоговороспособна, либо это страна, которая так или иначе обязательно сдаст позиции. Необходимо просто продолжать осуществлять жесткую стратегию сдерживания и идти в направлении, которое когда-то прочертил Джордж Кеннан, но гораздо дальше. Мейнстрим в этом отношении был достаточно подвижным, динамичным.
Эта дискуссия в значительной степени исчезла на сегодняшний день. Не считая последних попыток Трампа, американский мейнстрим не считает необходимым диалог с Россией.
— С чем это связано?
— С исчезновением Советского Союза. Можно по-разному относиться к советской системе ценностей, к системе интересов, но они были. Была определенная традиция, преемственность внешнеполитического курса, при том что курс этот часто воспринимался на Западе как опасный и экспансионистский.
Когда СССР обрушился, мейнстрим на Западе, отвечая на тот вопрос, который я раньше сформулировал, решил, что Россия уже не будет воевать ни за те интересы, которые были до распада Советского Союза, ни за те ценности. А новых, собственно говоря, не сформулировано.
— В одной из своих статей вы утверждаете, что американские исследователи, изучая «сущее» (то, что есть) в России, часто проецируют «должное» (то, что, по их мнению, должно быть). Как возникла эта проблема?
— Во время холодной войны было проецирование страхов прежде всего. Все-таки Советский Союз — ядерная мощная держава, с ней необходимо либо налаживать диалог, либо продавливать ее дальше. Когда СССР не стало, возник так называемый однополярный момент и Соединенные Штаты оказались в положении единственной доминирующей сверхдержавы. Проецирование достигло, во-первых, совершенно других пропорций и степеней, а во-вторых, проецировались уже не страхи, как раньше, а уверенность США в себе, в доминировании геополитических интересов и ценностей Запада и в универсальности его идеологии.
— Россия своей политикой после развала СССР не потворствовала этому?
— Безусловно. В США были уверены, что Россия так хочет быть частью Запада, что готова сделать все для этого. Именно это декларировали первые лидеры постсоветской России. Поэтому на Западе были уверены, что «мы все делаем правильно, мы можем исходить из наших интересов и дальше продвигать их, не оглядываясь на Россию. Тем более что она находится в положении едва выживающего государства, не способного отстоять свои интересы». Такое восприятие сложилось и окрепло в 1990-е годы. Ну и, собственно, у нас не было понимания, в чем же состоят наши интересы, в чем состоят теперь наши ценности.
В США были уверены, что Россия так хочет быть частью Запада, что готова сделать все для этого. Именно это декларировали первые лидеры постсоветской России
В то время как Россия, конечно, могла бы позиционировать себя не только как страну с определенными геополитическими интересами, но и как партнера по целому ряду важных международных экономических, политических, идейных, культурных проектов.
— Почему в США ее не готовы были видеть в этой роли?
— Для этого нужна другая система позиционирования со стороны России и другая русистика. Советология ставила цель понять мышление советских лидеров как источник угроз, а современные исследования более сравнительные и ставят цели понять, как в конечном счете Россия будет адаптироваться к глобализации, к западному миру.
Советология — это все-таки внимание к текстам, стремление понять язык, традиции, культуру, историю страны. Изучали внимательно тексты, передовицы газеты «Правда», даже фотографии тщательно и скрупулезно анализировались. А когда этот метод ушел, когда ушла, собственно говоря, цель изучения угрозы, потому что Россия исчезла как угроза после распада Советского Союза, ее просто стали встраивать в так называемую компаративистику (метод сравнения для анализа политических систем, институтов и процессов в разных странах или регионах с целью выявления закономерностей, сходств и различий. — «Монокль») и в так называемую транзитологию (изучает, как страны переходят от одного политического режима к другому. Чаще всего от диктатуры к демократии. — «Монокль»).
Внешнеполитический разворот
— Как это помогало или мешало Западу в понимании России?
— В первые годы Россию в значительной степени понимали как страну, которая худо-бедно переходит к демократии. Этот дискурс доминировал до финансового кризиса 1998 года. Россия становится западной демократией со всеми проблемами, которые у нее есть. Да, Ельцин не всегда адекватен, но тем не менее это наш человек в Москве.
Потом, когда пришел к власти Путин и развернул внешнюю политику, возникло замешательство, которое продолжалось до середины двухтысячных.
— И к чему оно привело?
— Во второй половине двухтысячных Россия, по мнению Запада, развернулась в сторону от демократии и теперь должна изучаться в сравнительном отношении, не как мы изучали раньше, будучи советологами, а в сравнении с другими персоналистскими автократиями: Ближний Восток, Латинская Америка, Африка или Европа Франко. Сравнения России с фашизмом сегодня уже нередки.
И, соответственно, используемые методы преследуют цель не столько интерпретировать, понять смыслы российского поведения, сколько выявить модели поведения России в мире и ее противодействия Западу, особенно не задаваясь вопросом, почему это происходит. Главное, что она противостоит нам, и, следовательно, нужно отвечать и вырабатывать свои модели противодействия России. Мы сильнее, находимся «на правильной стороне истории», поэтому Россию важно не понимать, а ставить на место.
Поэтому анализируется не дискурс, а поведение. Методики, которые выбираются, связаны не столько с выявлением смыслов, к чему стремилась советология, сколько с пониманием так называемых причинно-следственных связей. В общественных науках есть довольно значимое разделение между методами интерпретации и позитивизма. В первом случае упор делается на понимание концепций и дискурса, и это в значительной степени то, что практиковала по-своему советология. Что касается позитивизма, то здесь важнее выявление причинно-следственных связей, рационалистские методики, когда между объектом и субъектом, между тем, что мы изучаем и тем, кто изучает, стоит китайская стена. В этом случае в задачи исследователя не входит, как бы странно это ни звучало, понимание мышления тех, кто является объектом исследования.
— Как это сказывается на изучении России?
— На Западе просто приписывают тем, кого изучают, определенные модели мышления и анализируют, исходя из этих приписок-допущений, как будут себя вести российские или иные политики в определенных обстоятельствах и условиях. Происходит соответствующее уже описанному проецированию домысливание. За Россию решают, в чем ее интересы и ценности, часто не утруждая себя чтением работ российских политиков и аналитиков.
И если возвращаться к вопросу «за что Россия будет воевать?», то в этой традиции ответ на этот вопрос заключается в том, что она не будет воевать ни за что. По крайней мере, до 2014 года, до кризиса с Украиной, казалось, что Россия не в состоянии ни подняться, ни мобилизоваться, чтобы воевать за что-то, ни осознать себя как страна, которая будет конкурировать с Западом за определенные ценности и интересы. Казалось, что этих ценностей и интересов, собственно говоря, и нет.
Любопытно, что до сих пор многие в мейнстриме считают, что Россия воюет не за интересы, а за противостояние якобы демократической Украине. Персоналистская автократия противостоит демократической Украине, и в этом конфликт. То есть интересы по-прежнему не осознаются, а если Путин говорит об интересах, ну это он, на их взгляд, просто блефует.
Обратите внимание, что во втором сроке в окружении Трампа практически нет экспертов по России. Раньше были, хотя и немного, а сейчас нет вообще. Вместо этого он отправляет на переговоры с Россией человека, который играет вместе с ним в гольф. Или генерала, который едет на Украину, но тоже понятия не имеет, что такое Россия. Если Трамп не аберрация, то потихоньку может появиться запрос на новые академические исследования. Может смениться и парадигма персоналистской автократии, хотя пока об этом говорить рано.
— Есть мнение, что нынешний российско-американский кризис — это не только столкновение интересов, но и культурный сбой в коммуникации элит.
— Да, это важный аспект. Культурно Запад считает себя не просто превосходящей, а, по сути, единственной приемлемой системой ценностей, единственной по-настоящему универсальной цивилизацией. Все остальные, в понимании Запада, раньше или позже все равно будут заимствовать эти самые западные ценности.
В понимании западных элит отсутствует культурно-плюралистическое видение мира, в котором есть не только глобальность, но и самобытность как вторая обязательная составляющая. И в этом смысле культурная мискоммуникация, безусловно, имеет место, потому что в западном мейнстриме, либерально-гегемонистском мейнстриме в особенности, по-прежнему живет твердое убеждение, что Трамп сегодня есть, а завтра его не будет. Универсально-глобалистская система переживет его внутри страны, а вовне вновь, как в результате холодной войны, одержит победу над оппонентами. Мы вернемся, как говорил когда-то Джо Байден, и Россия тоже никуда не денется. В конечном счете ничего другого человечеством не придумано. Мы — Град на холме, наши ценности возобладают, но они должны быть, конечно, подкреплены и военной мощью.
Конечно, это система, которая неприемлема для многих за пределами Запада, причем чем дальше, тем больше. Не только для России, но и для Китая. Посмотрите, как развернулась Индия сегодня. Разве это не удивительно? Индия не поддалась давлению Трампа не только потому, что ей невыгодно отказываться от российской нефти, но потому, что, как правильно сказал Нарендра Моди, это вопрос и национально-культурного суверенитета.
Зеркало для Америки
— Слушая вас, вспоминаешь фразу немецкого философа Фейербаха, который как-то сказал, что «представление человека о Боге говорит не о Боге, а о человеке». На ваш взгляд, что сегодняшнее представление США о России говорит о самих американцах?
— Многое. Америка проходит через глубокий кризис национальной идентичности. Это кризис между либеральным глобализмом и попыткой нащупать новые основания для того, чтобы взаимодействовать с миром.
Для либеральных глобалистов Россия — это во многом значимый «другой», так же как Америка по-прежнему является значимым «другим» для многих живущих в России. Джо Байден и многие другие политики определяли американскую демократию через отличие от русской автократии. И во время холодной войны демократия тоже сформировалась как плюралистский нарратив: мы такие, потому что мы не такие, как они.
А для Трампа Россия — это ядерная держава, с которой придется считаться, нравится нам это или не нравится. Во-вторых, поскольку он экономический националист, для него очень важно использовать российские ресурсы в будущем противодействии Китаю. Для Трампа Россия тоже очень важная часть понимания Америки, но она не является значимым «другим». Это просто важный экономический и геополитический партнер.
— Россия сумела донести до Запада, в чем ее национальные интересы? Есть ощущение, что именно непонимание в этом вопросе и привело к тому, что там Россию всерьез не воспринимали.
— Одно из условий, при котором голос России будет слышен, связано с изменением положения Запада и США в международной системе. Когда Запад заново ощутит свои уязвимости и необходимость какого-то диалога, необходимость выстраивать по-другому отношения с окружающим миром, когда окончательно уйдет вот эта парадигма глобализации с западным лицом, когда все вопросы решаются и правила формулируются в одной части мира. Это время сейчас уходит. Возникают первые условия для того, чтобы переосмыслить прежнее отношение к России.
От антизападничества к идентичности
— А другие условия?
— Они касаются России, и это принципиально важно. Должно измениться международное положение России. У нее должно сложиться ясное понимание тех целей, той роли, которую она играет в мире. Важно, чтобы четкое понимание возникло как для нее самой, так и для внешнего мира. Потому что одна из причин, почему нас так боятся в Европе, связана с тем, что там не понимают, в чем же состоят цели России. И приписывают ей в связи с этим самые худшие, самые угрожающие для себя варианты поведения. Многие европейцы уверены, что Россия вот-вот захватит Украину и тогда наступит конец света. Потому что тогда Россия захватит и Польшу, и Швецию и пойдет дальше.
Это результат не только стереотипов Запада, но и того, что в России за последние тридцать лет политика менялась радикально — от прозападной, вплоть до отрицания собственных национальных интересов, до экстремального ухода в антизападничество. На фоне украинского конфликта это понятно, но тем не менее это все равно уход в совсем другую крайность. И это не то, что поможет позиционировать страну в обозримой перспективе. Нужны какие-то долгосрочные ориентиры, которые помогли бы позиционировать ее как стабильную, предсказуемую страну с устойчивой ролью в международных отношениях.
— Что может быть альтернативой?
— У России исторически были ценности, которые сделали ее Россией, державой, которая смогла решить важные для себя задачи. И не только в петровский период, но и за его пределами. Важно преодолеть петровское наследие конкуренции с Западом и постоянного соотнесения себя с Западом. Необходимо сформулировать взгляд на российскую идентичность и систему ценностей, который позволит охватить более длительный исторический период.
Россия как государство сформировалась до Петра, она вошла в Запад, уже сформировавшись как Россия, и от этого не перестала быть Россией. Это необходимо, на мой взгляд, заново переосмыслить, и не только исходя из сиюминутных реалий и необходимости завершения нынешнего конфликта на тех условиях, которые сохранили бы для России важные интересы и место в мире. Исходя из более долгосрочной перспективы.
Потому что мир, в который мы сейчас входим, только начинается. Происходят беспрецедентные изменения. Меняется положение Запада в мире. Возникают совершенно новые, связанные с подъемом незападного мира возможности. Но и новые угрозы, новые источники непредсказуемости.
— В России есть мнение, что расширение НАТО на Восток, цветные революции вокруг нас, тысячи санкций — это часть плана Запада по ослаблению, уничтожению России. Но там считают, что эти шаги являются лишь защитой от агрессивной, непредсказуемой России.
— Это стало официальным обоснованием политики по отношению к России сразу после февраля 2022 года. Изначально, как вы помните, у Байдена и у западных лидеров была убежденность или, во всяком случае, большая надежда на то, что произойдет обвал российской экономики при помощи масштабных санкций, обвал российского режима, в связи с чем сменится политика по отношению к Украине и не только. Хотя это не называется своими именами, изначально ставка была сделана не на сдерживание, а на смену российского режима. Помните, как в марте 2022 года, выступая в Польше, Байден заявил, что этот человек, имея в виду Путина, не может находиться у власти?
Хорошо известно о политике Запада по финансированию разного рода якобы неправительственных организаций против России. Это ведь не только недавняя история. Это и история ЦРУ, история поддержки украинских националистов еще в пятидесятые годы. И эта непроговоренная ориентация на смену режима в России все-таки изменилась примерно с того времени, когда была объявлена частичная мобилизация и когда американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что шансы использования ядерного оружия Россией составляют 50 на 50. Этот анализ был донесен до Байдена, и он, разговаривая со своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном, сказал в ноябре 2022 года, что дальше мы не можем продолжать то, что мы делали.
Буквально он сказал, что we are stuck в этом отношении. Мы застряли. Мы должны исходить из того, что теперь мы будем поддерживать Украину в той мере, в какой ей необходимо, работая на истощение России, но мы не можем исходить из того, что сможем изменить российский режим принципиально. Поэтому мы переходим к стратегии сдерживания, которая в конечном счете приведет к тому, что санкции сработают, пусть не сразу. И при помощи больших поставок оружия, укрепления украинской армии мы добьемся того, чего добились в холодной войне. Режим в конечном счете перейдет к переговорам, но это будет результатом политики сдерживания, а не трансформации режима. Именно так это обосновывается сегодня.
Геокультурные границы России
— На Западе сегодня уверены, что Россия хочет и может захватить всю Украину и пойти дальше на Европу. А какие приводятся аргументы против этого?
— Известный на Западе и в России политолог Джон Миршаймер нередко говорит: глупо ожидать, что Россия пойдет дальше, за пределы Украины, если за три с половиной года она смогла взять под контроль только 20 процентов украинской территории.
Но есть и другая важная сторона: Россия исторически стремилась не выходить за сферу своего геокультурного влияния. Те люди, которые приписывают сегодня Путину желание захватить всю Европу, невнимательно читают его высказывания: он неоднократно критиковал решение Сталина взять под контроль западную часть Украины, потому что у него есть четкое понимание того, где, собственно говоря, находится геокультурное влияние России, где она может влиять существенно.
Есть исторически сложившийся культурный ареал людей, которые всегда будут тяготеть к России, для которых Россия — это не просто страна, это определенная система ценностей. Страна, которая противостояла фашизму, защищала православие. Не случайно у России в таких странах, как Сербия, значительная часть Украины, Белоруссия, в определенных частях Восточной Европы и на Балканах есть историческая опора, которая никуда не исчезла и не исчезнет, независимо от действий политиков.
Если на Западе отмотают немножко назад историю, то увидят сходство современной ситуации, например, с Крымской войной середины девятнадцатого века. Россия прежде всего стремилась защитить православных, свои культурные ценности в этом регионе. Она хотела решить этот вопрос в диалоге с западными странами, но ее поняли как страну, которая хочет захватить Константинополь. Этот конфликт видений и оценок похож на то, что происходит сегодня.
В России, конечно, всегда были, условно говоря, экспансионисты. Те, которые хотели осуществить греческий проект, как во времена Екатерины Второй, те, которые хотели захватить Константинополь, но эти люди никогда не обладали достаточным влиянием на политиков, которые принимали решения. Геокультурные пространства России ограничены определенными ценностями и геополитическими интересами. Их важно сформулировать и четко донести до западного мира. А Западу, соответственно, нужно быть готовым к тому, чтобы их воспринять.
— Вы говорите, что у России есть ареал геокультурного влияния. Но, опять же, если посмотреть со стороны Запада, почему для них это должно быть оправданием агрессивной, как они считают, политики Москвы?
— У России всегда есть варианты, как реагировать на те вызовы и на те угрозы, которые нередко создавали и продолжают создавать западные страны. В частности, расширение НАТО — это не прямая, но потенциальная угроза, которая приведет к тому, что военная инфраструктура будет расположена в непосредственной близости к чувствительным районам России. Это, собственно говоря, только потенциал. То, что в английском языке называется capabilities. Но, как правило, государство реагирует именно на эти capabilities.
И если вы, например, представите себе такую гипотетическую ситуацию, что Россия или Китай захотят создать военную базу на территории Кубы или Мексики, то реакция Америки не замедлит себя ждать. И она будет в значительной степени более жесткой, более быстрой, чем реакция России на расширение НАТО в середине девяностых годов, ведь Россия отреагировала по-военному, строго говоря, только сейчас.
Россия всегда была многокультурная, многорелигиозная, многоцивилизационная. Это разнообразие, мне кажется, и есть во многом источник русского гения
На Украине живет значительная часть населения, которое не только говорит по-русски, но во многом тяготеет, во всяком случае тяготело до боевых действий, к России и к российским интересам. Речь идет не о том, чтобы восстанавливать империю по границам этого геокультурного ареала. Речь о том, чтобы поддерживать это влияние и дальше в решении экономических, политических и других вопросов, потому что это взаимовыгодно, это взаимоценно, это помогает в том числе находить общий язык с людьми, которые принимают решения в этой стране.
— А как вы бы объяснили происходящее американским коллегам-русистам?
— Во многом Запад по-прежнему исходит из стереотипов, которые много лет назад сформулировал маркиз де Кюстин и некоторые его предшественники. Что Россия всегда стремится расшириться, что у нее нет других задач, кроме того, чтобы отобрать у Запада то, что принадлежит ему по праву и входит в сферу его геополитических и культурных интересов.
Главная же проблема России — справиться с этим огромным пространством, с этническим, религиозным разнообразием. Это не страна, а континент. Создать более или менее приемлемый образ жизни и систему ценностей, которая разделялась бы во всем этом пространстве, — это огромный вызов сам по себе. И пытаться представить ситуацию так, что главное для России лишь внешняя политическая экспансия, — это не понимать азов.
Россия формировалась прежде всего как страна, которая стремилась найти опоры для того, чтобы развиваться дальше внутри себя. И во многом она недостроена и сегодня. Недостроена в политико-государственном и инфраструктурном отношении. Прежде всего потому, что исторически было мало времени для того, чтобы решать эти задачи.
Важно прояснить долговременные основания культурного и геополитического влияния России. России даже вся Украина не нужна, не говоря уже о Европе. Это легко проверить, достаточно вспомнить, как голосовали люди на Украине до войны. Если вы посмотрите, какая часть Украины тяготела к России, то это прежде всего восток, часть центра, и это и есть сфера культурного влияния России. Это не значит, что их нужно включать в состав России, но это значит, что там можно по-прежнему завязывать тесные и перспективные отношения и оттуда, исходя из этого, выстраивать отношения и с Киевом. Так что это не приглашение к агрессии, это не приглашение к империи. Это приглашение прояснить то, что такое Россия сегодня и где границы ее геокультурного влияния.
Истоки русской идеи
— Чем, на ваш взгляд, Россия может быть сегодня интересна другим странам?
— На самом деле это ключевой вопрос. Россия, на мой взгляд, исторически показала себя страной, которая нужна миру, потому что она находится в географически важном регионе, через который проходит огромное количество мировых геополитических и геоэкономических транзакций. Сегодня Россия оказалась необходима миру не только как поставщик нефти, газа и сельскохозяйственных продуктов, но и как обладатель логистических цепочек.
Этим старается воспользоваться Китай, выстраивая Шелковый путь. Этим старается воспользоваться Турция. И этим пока недостаточно воспользовалась Россия, хотя эти проекты существовали со второй половины девяностых годов. Россия могла бы быть не просто Евразией, а Евро-Азией, страной, которая объединяет разные страны, разные цивилизации, делает возможным их диалог, более, скажем так, экономически выгодные транзакции через ее территории.
— Способна ли Россия сегодня создавать новые смыслы?
— О том, что такое русская идея, я недавно написал небольшую трилогию. В частности, одна из книг была «о цивилизации и национальной самобытности», о том, какие ценности Россия стремилась выделить в своем развитии.
В России было две традиции. Одну можно назвать традицией имперской и национальной исключительности, когда российские ценности формулировались как единые, монолитные, их стремились так или иначе либо навязать, либо выстроить, чтобы остальная часть населения их разделяла.
А вторая традиция — это традиция диалога, прежде всего. Это традиция создания пространства для взаимодействия разных культур, тем более что Россия всегда была многокультурная, многорелигиозная, многоцивилизационная. Если есть сильное, внятное государство с понятной политикой в отношении разных религиозных, этнических меньшинств, то это обогащает страну и создает возможности для взаимодействия с миром. Это разнообразие, мне кажется, и есть во многом источник русского гения.
Русский народ, в широком смысле этого слова, находит самые разные и неожиданные решения, которые могут стать частью национальной политики. Это очень важно не давить, а использовать. И конечно, для этого нужна и значительная степень политической свободы.