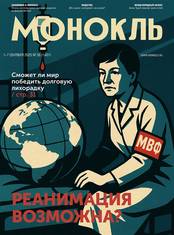Ситуацию вокруг Intel с «Моноклем» согласился обсудить заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Иван Данилин.
— Сделка по передаче 9,9 процента акций Intel правительству США оценивается в 8,9 миллиарда долларов. При этом речь идет не о новых деньгах, а о монетизации ранее согласованных средств — грантов по Закону о чипах и науке и средств по программе Пентагона Secure Enclave. К тому же на фоне рекордного за всю 56-летнюю историю Intel убытка в 18,8 миллиарда долларов сумма госвливаний не кажется экстраординарной. Как вы «расшифровываете» сделку?
— Одного очевидного ответа на вопрос о целях и задачах сделки нет ни у кого. Сам Дональд Трамп утверждает, что это сделано для усиления компании, развития Америки и тому подобного. Частично это можно расшифровать как сигнал рынку, что Intel слишком важна, чтобы дать ей «упасть», в том числе дабы улучшить ее перспективы на рынках капитала (акции Intel и правда подросли в цене). Частично это также попытка придать импульс развитию компании изнутри. Не секрет, что из-за убытков, проблем менеджмента и культуры компании ее «звездные» проекты существенно отстают от графика, включая психологически важную для администрации фабрику в Огайо.
Трамп явно хочет повысить динамизм преобразований. Белый дом уже заявил, что, хотя государство не получит места в совете директоров и не будет вмешиваться в управление, оно будет поддерживать политику руководства компании (а не жадных до краткосрочной прибыли акционеров!).
Наконец, есть и «китайская версия». Президент жестко критиковал нового гендиректора корпорации Лип-Бу Тана за инвестиции в компании КНР. Вхождение в капитал Intel в этом контексте еще и способ гарантировать минимизацию китайского вектора корпорации. Возможно, именно этот аспект имел в виду министр торговли Говард Лютник, который назвал национальную безопасность основной причиной сделки. Хотя, опять же, может, он имел в виду усиление индустрии как гаранта американской мощи.
Но, скорее всего, за сделкой не стоит никакого «большого плана» или единой логики, а лишь ситуативный набор причин, приведших эпатажного президента к неординарному и весьма неожиданному для рынка решению. Как и с тарифами, Трамп экспериментирует. Разочаровавшись в одних инструментах восстановления технологического величия Америки, он пробует другие. Показательно, что, по словам самого Трампа и главы Национального экономического совета при президенте США Кевина Хассета, это лишь один из шагов в формировании новой промышленной политики с усилением акцента на развитие национального технологического потенциала — явно в противовес «глобалистским» устремлениям финансового сектора и корпоративного менеджмента. Не случайно в Вашингтоне опять оживились дискуссии о создании суверенного фонда из акций стратегических компаний.
— Ключевыми пунктами стратегии Пэта Гэлсингера, возглавлявшего Intel в 2021‒2024 годах, было строительство двух новых заводов по производству чипов в США, переход на типоразмер семь нанометров, контрактное производство процессоров других разработчиков на своих фабриках и своих чипов на чужих фабриках, технологическая кооперация (поставка модулей) с другими производителями процессоров. Однако стратегия «не взлетела»: ухудшение бизнес-показателей и потеря рыночных позиций Intel ускорились. Что пошло не так? Почему план Гэлсингера не сработал?
— Опять же, факторов было много. Кто-то говорит, что после десятилетий производства только для себя Intel попросту не умеет работать на других. Кто-то обвиняет менеджмент в негибкости и неэффективности, в близорукости при принятии стратегических решений и тому подобных грехах (как, кстати, и другого гиганта хайтек-индустрии — Boeing).
Не менее важной оказалась и рыночная ситуация. Двадцать лет назад империя Intel контролировала мир «большой» микроэлектроники. Ее финансовая база, доступ к капиталу, кадровый потенциал были почти безграничны. Сейчас рынок раздроблен, появились новые перспективные ниши, которые Intel в свое время просмотрела или недоинвестировала, а конкуренты стали сильнее — в том числе на ключевых рынках логических и серверных чипов.
Что-то подобное пережили в свое время «голубой гигант» IBM и целый ряд иных корпораций. Сложилась парадоксальная ситуация. Лидировать «как раньше» Intel не в силах. Пойти по пути AMD («сброс» производственных активов) сложно и страшно. А врываться с нуля на ниши, где уже доминируют иные компании, та же Nvidia, сложно и дорого. Вернуться в качестве лидера и разработки чипов, и их производства, да еще и выйти на новые рынки Intel просто не под силу.
— Как вы оцениваете позиции Intel по отношению к ее главным конкурентам — AMD, Nvidia, TSMC, Samsung, Rapidus?
— Слухи о смерти основного бизнеса Intel явно преувеличены. И мы еще увидим и новые чипы, и новые битвы с AMD. Явно останется и некое производство, хотя идти наперекор тренду на специализацию и разделение труда у корпорации явно не получится. Время ушло, силы не те, и, главное, рынок стал другим. Так что с TSMC, скорее, будет разделение функций. Что касается Nvidia, то, похоже, война закончена и победитель в ней далеко не корпорация из Санта-Клары. Сравнивать с Samsung и Rapidus сложнее. Будущее Samsung не менее туманно, чем у Intel. Rapidus же пока перспективный проект, но сравнивать его с Intel попросту невозможно.
— Intel, вероятно, остается единственной компанией в мировой «высшей процессорной лиге», кто сохраняет всю производственную цепочку, начиная с разработки новых процессоров до их фабрикации. Почему Intel оказалась за периметром дихотомии fabless — foundry, ставшей с середины 1980-х годов отраслевым мейнстримом? Насколько продуктивно, по-вашему, сохранение производственных активов и компетенций для Intel сегодня? Может, предпочтительнее продать производственный бизнес? Обсуждается и противоположная опция — концентрация Intel на производственном бизнесе и продажа дизайнерского подразделения. Какая стратегия, на ваш взгляд, предпочтительнее для Intel?
— Собственное производство годами было конкурентным преимуществом Intel: оно позволяло делать более сложные и в целом более качественные чипы, чем у конкурентов, на тот момент лишенных аналогичных возможностей, — феномены TSMC и Samsung появились позже. Но, повторюсь, логика развития рынка и сам рынок поменялись. В этих условиях идея о спин-оффе производственных активов, может, и перспективна, но насколько это будет эффективно с точки зрения управления развитием корпорации и технологических процессов? Этот вопрос пока не имеет ответа.
Но обратная логика — Intel как производственная база — точно не сработает: собственно, полупровал стратегии Гелсингера подтверждает это.
— Как бы вы оценили государственную политику США в области микроэлектроники? Насколько решения администрации Байдена и Трампа соответствуют целям достижения технологического суверенитета и технологического лидерства в этой отрасли?
— Для любого эксперта давать однозначные оценки сложно и опасно. Слишком много внешних факторов, от динамики рынка до банального лоббизма и даже глупости политиков. Формально и в политике Байдена, и при Трампе наблюдался явный перекос в сторону «передового производства» (чипы по самым передовым техпроцессам), да еще и с выраженным акцентом на воскрешение Intel. Собственно, о чем и говорили многие отраслевые эксперты и представители индустрии. Однако огромные государственные гранты в рамках Chips And Science Act и по иным программам — это далеко не вся госполитика. Сотни миллионов выделяются на НИОКР, на образование и иные «поддерживающие» направления. Которые в реальности и будут определять будущее отрасли. Как показывает ситуация на рынках, патентная статистика и иные показатели, пока что эта «практичная» госполитика как минимум позволяет поддерживать нужный темп развития отрасли. Даже несмотря на спорные решения в той части госполитики, которая попадает в заголовки СМИ.
Сложнее обстоит дело с торговыми экзерсисами господина Трампа, как и его предшественника. Теоретически США прямо-таки выталкивают Китай и ряд иных стран в суверенизацию важных технологических процессов в сфере микроэлектроники, что может иметь негативные последствия для американской индустрии. Не случайно санкционные и тарифные решения Вашингтона в отрасли вызывают очень смешанные чувства, а подчас и плохо скрываемое противодействие (как весной‒летом 2024 года) — и далеко не только из-за потерянных доходов.
Но микроэлектронный прорыв Китая или иных стран — это пока гипотетическое будущее, тогда как американское лидерство остается реальностью в настоящем. Так что однозначно говорить, что Белый дом допускает стратегические ошибки, преждевременно. К тому же не будем забывать, что даже в случае крупных просчетов потребуются десятилетия, чтобы США — как и Intel — пали с микроэлектронного олимпа.