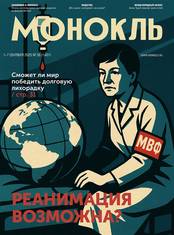Южный Кавказ остается пространством притяжения интересов глобальных и региональных игроков. Подписание мирных соглашений между Арменией и Азербайджаном, открывающее новые логистические коридоры, может кардинально изменить геополитический ландшафт региона. Эти изменения бросают вызов Грузии — стране, чья экономика и идентичность исторически формировались вокруг транзитной роли.
В новой реальности Тбилиси вынужден балансировать меж ду прагматичной экономической адаптацией и сохранением стратегического суверенитета. Парадоксальным образом, не смотря на три десятилетия активной работы западных фондов и институтов мягкой силы, в грузинском обществе нарастает евроскептицизм, основанный не на отрицании ценностей, а на болезненном осознании асимметричности партнерства. При этом Россия, остающаяся ключевым экономическим актором, практически полностью утратила идеологическую и культурную привлекательность для молодого поколения грузин.
О том, как Грузия лавирует в этом сложном клубке противоречий, нам рассказал директор Центра исламских исследований Кавказа политолог Шота Апхаидзе.
Кавказ после Вашингтонского соглашения
— Как в Грузии оценивают Вашингтонское соглашение между Арменией и Азербайджаном и изменение статуса транспортных коридоров?
— Данное соглашение влечет за собой кардинальную транс формацию геополитической конфигурации как на региональном, так и на глобальном уровне. Эти изменения оказывают непосредственное воздействие и на Грузию, что обусловлено компактными размерами и высокой степенью взаимозависимости государств Кавказского региона, в особенности Южного Кавказа. Локальная инфраструктурная сеть, в отличие от масштабных систем Китая, Индии, Центральной Азии или стран Ближнего Востока, характеризуется ограниченной пропуск ной способностью, что усиливает взаимосвязь всех игроков в условиях ограниченного территориального пространства.
Со стороны экспертного сообщества, включая экономистов, политологов и представителей финансового сектора, высказываются обоснованные опасения относительно потенциальных негативных последствий для экономики Грузии, традиционно зависящей от транзитных потоков. Ключевыми источниками наших доходов остаются транспортировка энергоресурсов, эксплуатация трубопроводов, использование сухопутных маршрутов, а также деятельность портовых терминалов, обеспечивающих выход к акватории Средиземного моря и Атлантического океана.
Существует точка зрения, согласно которой открытие Зангезурского коридора Азербайджаном создаст альтернативный транзитный маршрут через Армению, что может негативно сказаться на грузинской экономике. Вероятно сокращение грузопотоков из Турции в направлении Центральной Азии и Азербайджана.
Тем не менее представляется, что окончательное воздействие на экономику Грузии будет ограниченным. Это объясняется наличием устоявшихся транспортных схем, включая так называемый средний коридор, а также долгосрочными контрактами с крупными логистическими операторами, которые на протяжении двух-трех десятилетий сотрудничают с грузинскими портами Батуми и Поти, используют национальную железнодорожную инфраструктуру и другие элементы транспортной системы. Большинство из этих компаний со хранят существующие маршруты, хотя частичная миграция транзита, прежде всего турецких и азербайджанских пере возчиков, возможна.
Что касается компаний из Средней Азии и Китая, то они, вероятно, сохранят приверженность действующим маршрутам в силу высокой чувствительности к тарифным условиям. Исторически сложившиеся низкие тарифы на перевозки через грузинскую территорию привлекали даже Казахстан и другие центральноазиатские государства. Несмотря на ожидаемое усиление конкуренции и возможное перераспределение не которых логистических потоков в пользу Зангезурского кори дора, грузинское направление сохранит свою значимость.
Мы приветствуем любое мирное урегулирование, особенно между Арменией и Азербайджаном. Однако нельзя игнорировать растущее влияние внешнеполитического фактора Турции
— Будет ли Вашингтонское соглашение способствовать политической стабилизации на Южном Кавказе?
— Безусловно, мы приветствуем любое мирное урегулирование, особенно между Арменией и Азербайджаном. Однако нельзя игнорировать растущее влияние внешнеполитического фактора Турции, которая открыто декларирует свои стратегические интересы в регионе.
Турецкий капитал и грузинский суверенитет
— В чем заключается турецкая угроза?
— При анализе работ Ахмета Давутоглу, в прошлом премьер-министра и лидера правящей Партии справедливости и развития Турции, в частности его фундаментального труда «Стратегическая глубина», становится очевидной преемственность внешнеполитического курса администрации Эрдогана. Современная турецкая политика представляет со бой эклектичный синтезнеоосманских и пантюркистских концепций, дополненный экономической экспансией.
Особое беспокойство вызывает стратегическая ориентация Анкары на Центральную Азию через идеологическую конструкцию «Великого Турана». Несмотря на ограниченную этногенетическую связь с тюркскими народами Алтая, Сибири и Центральной Азии (включая уйгурское население Западного Китая), турецкое руководство активно использует лингвистический и культурный факторы для продвижения своих интересов. Данный идеологический инструментарий служит для обеспечения доступа к энергетическим ресур сам, необходимым для развития турецкой промышленной экономики.
Администрация Эрдогана системно использует тюркский фактор в своей внешней политике, формируя комплексную парадигму влияния на страны региона. Открытие Зангезурского коридора создает дополнительные возможности для реализации этих стратегических интересов, что вызывает обоснованную озабоченность с точки зрения сохранения баланса сил в регионе.
— Так в чем угроза непосредственно для Грузии?
— Показательным в этом контексте стало недавнее символическое заявление турецкого лидера, сделанное в день исторической Дидгорской битвы 1121 года — события, имеющего фундаментальное значение для грузинской государственности, поскольку именно тогда объединенные грузино-кипчакские силы остановили продвижение сельджуков, обеспечив сохранение христианской цивилизации в регионе.
Эрдоган пригласил нашего президента и потребовал возвращения турок-месхетинцев, число которых сегодня достигает 300–400 тысяч, и они проживают в разных странах. Их возвращение, то есть репатриация, в Грузию — большая угроза.
Эти люди вообще не считают себя грузинами. Говорят, что они тюрки. Исторически они были оккупантами. Если они вернутся на территорию Грузии, есть риск, что этот регион может превратиться в Северный Кипр.
— Между тем турецкий бизнес уже глубоко зашел в грузинскую экономику.
— Если брать общее процентное соотношение, то около 60 процентов грузинских инвестиций приходится на турецкие компании. Анкара — важнейший торгово-экономический партнер нашей страны.
Есть и сильное политическое присутствие, так как Турция является военным партнером Грузии. Не стоит забывать, что с 1990-х годов Анкара очень сильно поддерживала грузинский ВПК. Наши курсанты десятилетиями обучались в военных и полицейских академиях Турции.
Потому я опасаюсь, что мы можем полностью оказаться под влиянием Турции.
Прагматичная Грузия
— Как охарактеризовать внешнюю политику Грузии: стратегический прагматизм или идеологическая неопределенность?
— Как говорят по-английски, only business. Потому что сейчас руководство Грузии понимает: конфронтация с Россией прежде всего ударит по нашей стране. Имеется в виду открытие второго фронта. Это абсолютное безумие, это потеря и окончательное уничтожение нашей государственности.
Следует учитывать, что почетный председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, как и Дональд Трамп, является представителем бизнес-кругов, что обусловливает его прагматичный подход к извлечению финансовых дивидендов из политических процессов. Я не являюсь апологетом партии «Грузинская мечта», но поддерживаю личные отношения со многими ее представителями. Следует констатировать отсутствие у данной политической силы внятной идеологической платформы, будь то прозападной или проевразийской ориентации. Создается ситуация идеологического вакуума и хаотической неопределенности.
Наблюдается выраженный правовой и внешнеполитический дуализм: при конституционно закрепленных курсах на интеграцию в НАТО и ЕС одновременно развивается стратегическое партнерство с Китаем. Такие пункты в Конституции — правовой нонсенс, не имеющий аналогов в международной практике. Особенно парадоксальным представляется сохранение евроатлантического вектора, несмотря на регулярные нарушения грузинского суверенитета западными функционерами через вмешательство во внутренние дела страны.
— Как Грузия пришла к этому?
— Во-первых, наличие неразрешенных территориальных конфликтов объективно ограничивает маневренность внешней политики. Во-вторых, за три десятилетия в общественном сознании, особенно среди молодого поколения, сформировалась устойчивая евроцентристская парадигма, приобретающая черты коллективного гипноза.
Государство должно основываться на принципах суверенитета и самобытного развития, а не на догматичном стремлении к институциональной принадлежности. Сложность заключается в том, что поколение двадцатилетних, не имея системного понимания институциональной архитектуры ЕС, его правовой и экономической систем, сохраняет иррациональную веру в «европейский путь» как единственную перспективу развития. Преодоление этой глубоко укорененной мифологии требует последовательной работы по формированию критического мышления и взвешенного мировоззрения, чего политическое руководство до сих пор не предпринимало.
Европейский путь — почти религия
— Молодые грузины воспринимают ЕС через призму ценностных категорий. Что Россия могла бы предложить им в идейном и цивилизационном плане, кроме торгово-экономического сотрудничества?
— Как бы парадоксально это ни звучало, кавказцы никогда не представляли себя частью Европы, несмотря на принадлежность армянской, грузинской и албанской цивилизаций к христианскому миру. Мы возникли из восточно-византийской христианской традиции. Наша историческая реальность заключалась в периферийном положении. Это объективный факт, который невозможно оспорить. Однако, несмотря на религиозную общность, ментально мы никогда не принадлежали к европейскому пространству.
Если провести сравнительный анализ эпосов — грузинского, армянского или албанского — и сопоставить их с кельтскими сагами, наследием вестготов, вандалов или англосаксов, становится очевидной их фундаментальная разность.
Тем не менее современная грузинская молодежь продолжает идентифицировать себя с европейским сообществом. Данный феномен сформировался за три десятилетия целенаправленной работы западных организаций, создававших образовательные и грантовые программы. Личный опыт по лучения стипендии фонда Конрада Аденауэра, активность фонда Фридриха Эберта, British Council, IREX и фонда Сороса свидетельствуют о системном характере этого процесса.
Несмотря на появление альтернативных программ китайских, японских и турецких центров, западные структуры сохраняют доминирующее влияние. Россия же, будучи демонизированной в медиапространстве и находясь в частичной изоляции, не предлагает конкурентоспособных образовательных проектов для грузинской молодежи. Даже при наличии возможностей обучения в России перспектива социальной стигматизации и профессиональной маргинализации после возвращения делает этот выбор непривлекательным.
Сложившаяся ситуация обусловлена не столько сознательным выбором молодежи, сколько историческими обстоятельствами постсоветской трансформации 1990-х годов, когда западные институты получили монопольное влияние в образовательной и информационной сферах.
— Сейчас что-нибудь изменилось в этом смысле?
— В настоящее время наблюдается формирование опре деленной альтернативы. Стало больше китайских образовательных программ, со значительным потоком студентов в соответствующие учебные заведения. Отмечается также академическая мобильность в направлении Северной Кореи и Японии.
Особого внимания заслуживает турецкое направление, особенно в регионе Аджарии и горной Аджарии: примерно 50 процентов образовательных грантов и стипендий финансируются турецкими фондами и организациями. Следует подчеркнуть, что значительная часть офицерского состава грузинской армии проходила обучение в военных учебных заведениях Турции, включая учреждения при Генеральном штабе.
— Но Китай, наверное, не финансирует студенческий обмен?
— Нет, Китай как раз очень активно финансирует обучение в своих вузах. Каждое дипломатическое представительство — японское посольство, посольство Таиланда, посольство Южной Кореи и в наибольшей степени Китай — предлагает собственные образовательные программы.
Причем при выборе этих направлений у студентов возникает меньше рисков социальной стигматизации. Проблема актуальна именно в контексте выбора России — если ты учился в России, как, например, в моем случае… Хотя у меня также есть европейское образование и я продолжительное время работал в европейских организациях над различными проектами, моя карьера в большей степени связана с Россией. Меня считают пророссийски настроенным, хотя моя позиция не является пророссийской в прямом смысле — я выступаю за дружественные отношения с Россией, поскольку осознаю значение нашего общего социокультурного пространства. Для меня важна эта идея единства.
Тем не менее мои коллеги в различных институциях из бегают рассматривать мою кандидатуру на ответственные должности. Они опасаются, открыто говоря: если мы назначим вас, последуют немедленные протесты со стороны западных посольств и оппозиционных сил, которые заявят о назначении «агента российских спецслужб».
— Появление альтернативных центров влияния в Грузии, помимо европейского, — это результат естественной конкуренции или следствие разочарования в западной политике?
— Евроскептицизм растет. Не в молодом поколении, а среди левых, социалистов. Они разумные, образованные молодые люди и видят, что отчасти европейские чиновники на нас смотрят как плантатор на своих рабов. Возьмем, к примеру, мой личный опыт. Почему я оказался на этом фланге?
Я работал в голландской компании, занимал позицию генерального директора в возрасте двадцати двух лет. Затем работал в различных западных организациях. В определенный момент, особенно после 2007 года, я окончательно осознал, что Запад настойчиво пытается навязать нам свое восприятие мира. Это вызвало острое чувство ущемленного достоинства и самоуважения. Я оставил свою должность и ушел в политику, хотя мог продолжать благополучную жизнь.
Такие же вопросы задают себе и молодые люди поколением младше — на десять-пятнадцать лет. Не все определяется материальными факторами. Существуют люди, мыслящие идеологически, для которых эти принципы чрезвычайно важны.
Образованные молодые люди видят, что отчасти европейские чиновники на нас смотрят как плантатор на своих рабов. И простой крестьянин, мудрый жизненным опытом, задается вопросом: «Зачем нам такая Европа?»
Определенная часть общества настроена евроскептически. И речь не только о политически активных группах — право центристах или левых. Обычные граждане Грузии, рабочие, жители сельских регионов видят, как Европа и Америка нарушают суверенитет нашей страны, вмешиваясь во внутренние дела. Простой крестьянин, мудрый жизненным опытом, задается вопросом: зачем нам такая Европа?
Конкуренция за умы
— Почему в Грузии, в отличие от других постсоветских стран, сформировался запрос на прагматичную власть?
— Мне кажется, Грузии это очень свойственно. Правда, речь идет не об уличной политике, а о серьезной, проактивной позиции.
Однако сегмент, который постоянно бастует и протестует, действительно многочисленный — нужно признать, что это влиятельная группа. Основу этих протестов составляют молодые люди. Однако ключевой вопрос заключается в том, кто манипулирует этими настроениями. Очевидно, что за этим стоят деструктивные оппозиционные силы и определенные внешние акторы на Западе, продвигающие исключительно прозападную повестку.
Что касается прагматиков, они всегда присутствовали в грузинском обществе. Но здесь необходимо отметить проблему медиапространства: примерно 99 процентов СМИ, по моей оценке, являются ангажированными, субъективными и либерально ориентированными. Более того, мы наблюдаем феномен либерального фашистско-экстремистского медиа пространства, которое намеренно показывает только одну сторону реальности.
Эти СМИ системно игнорируют прагматично настроенных граждан, не освещают существование альтернативной, евроскептической части общества — патриотов, которые ищут рациональные пути решения национальных вопросов.
Вместо этого всех нас помещают в единый концептуальный котел, заявляя, что мы являемся «агентурой Кремля». Создается искусственный нарратив, будто в Грузии существуют только прозападные либеральные силы, ЛГБТ-сообщество и сторонники легализации наркотиков — и больше ничего. Это сознательное упрощение и искажение реальной картины нашего общества.
— И это несмотря на то, что «Грузинская мечта» у власти и народ за нее голосует.
— Партия «Грузинская мечта» находится у власти, это факт. Однако даже их медиаресурс — телеканал «Имеди», формально считающийся провластным, — сохраняет прозападную редакционную политику. Справедливости ради отмечу: хотя там периодически присутствуют элементы евроскептицизма, в целом его позиция соответствует мейнстриму.
«Грузинская мечта» не предпринимает системных усилий по созданию альтернативных медиа или поддержке гражданского общества, мыслящего объективно и патриотично. Более того, партия сознательно избегает идеологической работы и даже препятствует нам — тем, кто мыслит прагматично и от стаивает национальные интересы. Они опасаются обвинений в «пророссийскости» со стороны как местной оппозиции, так и западных партнеров.
Среди молодого поколения в Грузии сформировалась устойчивая евроцентристская парадигма, приобретающая черты коллективного гипноза
Сложилась уникальная для Грузии ситуация: в отличие от Армении или Азербайджана здесь доминирует требование безусловной поддержки курса на евроатлантическую интеграцию. Любое отклонение от этой парадигмы трактуется как работа на российские спецслужбы.
При этом я признаю: текущий курс власти в некоторых аспектах заслуживает поддержки — особенно в избегании провокаций с Россией. Однако эти ситуативные успехи не от меняют стратегических просчетов. За двенадцать лет у власти «Грузинская мечта» не создала альтернативных институтов, не вела идеологической работы с обществом.
Если завтра они проиграют выборы — что вполне вероятно, учитывая социально-экономические проблемы, — мы рискуем вернуться к радикальной русофобской риторике. Это тупиковый путь, и мы должны были создать иммунитет против него за эти годы. Власть должна работать не только с экономикой, но и с общественным сознанием.
— А что можно реально сделать в нынешней ситуации для того, чтобы русофобская риторика не вернулась? Что может сделать Россия?
— Двадцать первый век — это прежде всего информационная война. Речь идет о создании контента. В Грузии производится колоссальный объем дезинформации через западные СМИ и НКО. Необходимо создавать альтернативные институты. В первую очередь работать в медиапространстве. Это и есть мягкая сила.
У меня был ряд крупных проектов в этой сфере. Но, к сожалению, меня не услышали. Мне достаточно прямо ответили: «У нас есть “Грузинская мечта”». Это направление считают бесперспективным. Потому что местные элиты работают исключительно в своих финансовых интересах.
Завтра ситуация может измениться. Половина нынешней «Грузинской мечты» ранее состояла в команде Саакашвили. Завтра они могут так же легко заявить: «Мы приветствуем США, НАТО, американские базы» — все, что потребует их бизнес.
Что должна предложить Россия? Создание альтернативных СМИ. Системную работу с молодежью, чтобы они знали подлинную историю, а не искаженные интерпретации.
Необходимо создавать образовательные центры, организовывать конференции. Мы проводили такие мероприятия, но сейчас эти инициативы свернули, прекратили финансирование. А это необходимо — ведь в отличие от американцев, которые тратили миллиарды на чуждое им социокультурное поле, нам нужно вернуть свое естественное пространство. Это общее наследие наших родителей, и мы можем восстановить его с минимальными затратами.