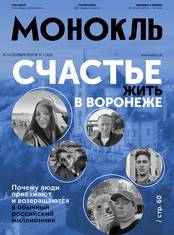Демократия — это интереснейшее понятие. О ней можно сказать и то, что она существует, широко представлена в мире, и то, что ее нет нигде: оба утверждения будет справедливыми.
Как так? Может быть, противоречие разрешается тем, что, существуя в теории, она не реализована на практике? Пример такого политического понятия, тоже одно время исключительно популярного, есть. Это коммунизм (бесклассовое общество всеобщего добровольного труда в отсутствие денег).
Но что коммунизм на практике где-то уже есть, не утверждали даже самые ярые его сторонники из числа вменяемых (то есть кроме, например, камбоджийских красных кхмеров, тех, кому Генри Киссинджер в поиске опоры в Индокитае после поражения во Вьетнамской войне просил через таиландских коллег передать следующее: «Вам… следует сказать камбоджийцам, что мы будем с ними дружить. Они кровожадные головорезы, но это не станет для нас препятствием. Мы готовы наладить с ними отношения»).
Случай с демократией явно другой. О ней как о факте заявляли светлейшие головы, например Йозеф Шумпетер. Он (в полемике с «классической» доктриной демократии) дал и определение «демократического метода», вошедшее в число типологических: «Это такое институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей».
Его (и целого ряда других мыслителей) вдумчивый анализ раскрывает нам столь противоречивую теорию и практику того, что понимается под демократией, что остается только удивляться, что ее саму рассматривают как инструмент разрешения общественных противоречий. Большее удивление способно вызвать только то, что она, кажется, действительно применяется для этой цели, и порой небезрезультатно.
Порой, но не всегда. Шумпетер писал: «Если правительством для народа можно назвать такое правительство, результаты политики которого в долгосрочной перспективе окажутся приемлемыми для народа в целом, то правительство народа, о котором говорит классическая доктрина демократии, часто не соответствует этому критерию».
Тут всё: и упомянутые противоречия, и одно из указаний на феномен «существования/несуществования» демократии. Скажем, правительство народа есть, но результаты его политики для народа неприемлемы. Значит, власть народа («демос» + «кратос») де-факто не осуществлена, демократии, можно сказать, нет. А результаты иного, недемократичного управления народ, напротив, устраивают. И власти могут сказать, что их правление демократично — по результатам, вне зависимости от форм и процедур. Это уже какая-то «демократия без демократии» получается.
У американцев популярен «утиный тест»: «Если это выглядит, как утка, плавает, как утка и крякает, как утка, то это, вероятно, и есть утка». Среди понятий, используемых в общественных науках, есть такие, которые его пройдут, а есть те, что нет.
Возьмем монархию. Попав с исследовательской целью в какой-нибудь действующий дворец, придем и увидим: властный обликом человек восседает на троне в регалиях, повелевает сановниками, те обращаются к нему «ваше величество». Ясно, что это король или султан (императоров и царей в настоящий период нет). Утиный тест успешно пройден.
Но иные понятия его не пройдут. Есть мнение, что и демократию с достаточной долей уверенности визуально идентифицировать нельзя. Скажем, известно, что м
онарха нет. Значит, это республика. Но политическая наука постулирует, что не всякая республика демократична. Голосование на выборах? Но сколько есть критики в адрес этого института! Начиная с ученой критики о том, что никакая электоральная процедура с точки зрения демократического идеала не совершенна и даже не оптимальна, и заканчивая критикой конкретных процедур и результатов (о чем речь еще будет). А уж если вспомнить о нынешнем электронном голосовании, то избирателя в момент волеизъявления можно не отличить от игрока в «Майнкрафт» или человека, оформляющего покупку в «Озоне».
Но все-таки демократию, на что уже прозрачно намекалось выше, нельзя назвать вовсе не существующей. Уподобляясь куда более видным теоретикам, указывавшим на сложность ее определения, и сильно перефразируя формулировку утиного теста, можно сказать: как бы это ни функционировало, как бы ни воспринималось, к каким бы результатам ни приводило, некоторые вещи, называемые словом «демократия», которые действительно логично и корректно называть этим словом, действительно есть.
Некоторые вещи. Но не все.
Природа власти и демократия
«Демократиями» порой называют целые страны. В характерном западном словоупотреблении, часто встречающемся и у нас, их противопоставляют так называемым недемократиям (диктатурам, авторитарным странам или «монархиям Залива»). На монархии в целом демократический раздел современной политической теории смотрит благосклонно, относя, скажем, Великобританию, Швецию, Бельгию или Японию к тем же демократиям, что и многие республики, как, например, США или Маврикий.
Этим языковым практикам соответствует распространенное представление о том, что термин «демократия» говорит что-то важное о самой природе власти, если даже не самое важное.
Вот с этим и хотелось бы поспорить. Что бы ни называли демократией, к природе власти она не принадлежит ни как часть этой природы (сущности), ни, соответственно, как целое (то, к чему эта сущность хотя бы в каком-либо из случаев могла бы быть сведена). Говоря разговорным языком, к природе власти демократия, хотя в составе этого слова и есть корень «власть» («кратос»), отношения не имеет. Возвращаясь к более строгой речи, отношение имеет, но только как внешний объект, способный находиться с субъектом властвования в некоем взаимодействии.
Тут же надо, конечно, указать на достаточно известные исторические исключения из сформулированного выше правила. Это народовластие в древнегреческих полисах, прежде всего демократия («прямая демократия») в Афинах в VI‒IV вв. до Р. Х., основанная на реформах архонтов Солона и Клисфена. Много веков спустя появились Новгородская и Псковская республики на Руси, вечевую систему властвования которых также относят к реализованной прямой демократии (то есть, в категориях этой статьи, они действительно были «демократиями»).
Здесь вряд ли возможен дальнейший экскурс в давние столетия, достаточно сказать, что когда политическая мысль Европы в XVIII веке вспомнила «афинский кейс» и попробовала приложить его к королевствам и княжествам, то сразу была обескуражена. Для такой рефлексии были все основания. Опыт городов-государств, где все граждане (свободные мужчины) могли собраться на площади и начать функционировать в качестве власти (хотя уже в Афинах пришлось со временем избирать Большой совет из 500 граждан, а потом и Коллегию пятидесяти), был очевидным образом неприменим к государствам большего размера. Это вызвало сомнения в осуществимости возрождения демократии, и сомнения совершенно справедливые — когда вы понимаете демократию как собственно власть.
О таких сомнениях, только уже сегодня, тут и речь. В упомянутой ситуации, то есть в европейско-американской истории Нового времени, изобретательный выход был найден, как известно, в представительной демократии, для которой, сначала теоретически, были использованы давно и хорошо известные парламентаризм и коллегиальность.
Мы же и сегодня сомневаемся, что за пределами опыта города-государства (и современного местного самоуправления, но там речи о государственной власти не идет) демократия является властью либо тождественна ей. Более того, здесь это выдвигается как утверждение: не является, не тождественна, не замещает собой как сущностью власть какой-либо иной сущности (природы).
Власть, как институт с исключительными прерогативами, персонифицируемый лицами, наделенными высшими распорядительными и законодательными полномочиями, автономна по отношению ко всему, что находится вне ее, будучи иерархически выше любых иных институтов и лиц. То, каким образом этот институт воспринимает внешние влияния (например, выборы, или подачу петиций, или результаты иных процедур и способов выражения мнения отдельных групп или лиц), может быть более или менее важным для власти, в том числе в зависимости от форм, в которых она осуществляется. Но не бывает ни демократической, ни, соответственно, недемократической власти как противоположности первой. (Можно сказать, что любая власть недемократическая, но это определение столь нагружено контекстами, в которых оно встречается, что лучше использовать его лишь как техническую оговорку.)
Большая российская энциклопедия определяет власть как «отношение между людьми, в котором одни могут навязать свою волю другим».
Британская энциклопедия дает следующее определение: «Власть (в политологии и социологии) — способность влиять, руководить, доминировать или иным образом воздействовать на жизнь и действия других людей в обществе. Понятие власти включает в себя, помимо прочего, понятие авторитета».
Попросту говоря, власть — это действие сверху вниз. Можно также сказать, что это управляющие сигналы, направленные с высшего уровня иерархии к нижестоящим уровням. Между тем демократия, при любых ее определениях, подразумевает сигналы, направленные снизу вверх.
Аргументация рассыпается?
Но может возникнуть справедливый вопрос о выборах и референдумах. В ходе выборов избиратели, по сути, назначают начальствующих в народе лиц. То есть осуществляют функцию, присущую, исходя из общепринятого понимания власти, исключительно ей самой.
Недаром проведение выборов, причем именно «свободных выборов», выдвинулось в нынешнюю эпоху распространения представительной (а значит — выборной) демократии на место первого критерия, по которому политологи обычно и определяют природу власти в стране как «демократическая» или «недемократическая». То есть именно по тому самому критерию, который мы выше сочли, по сути, лишенным смысла. Поскольку сама «природа власти» или просто «власть» не может быть ни той ни другой. Демократия, как отмечалось выше, — это внешняя по отношению к власти и не принадлежащая к ней сущность.
Впрочем, в качестве возражения против вывода, что «власть» и «демократия» не могут быть одной сущностью, может быть приведено функционирование института выборов. Характер такого возражения будет хорошо виден, скажем, на примерах критики, которой часто удостаивается проведение тех или иных конкретных выборов.
Такие события, как выборы, могут подвергаться критике за то, что к ним оказались не допущены политические акторы, участие которых не устраивает власть (институты власти). И сущностной причиной критики служит то, что народ не имеет возможности назначить на те или иные должности угодных ему лиц. А значит, не может осуществить власть. Тем самым умаляется демократический элемент ее природы (так как критики имеют в виду само его наличие).
И это очень сильное возражение. Если, голосуя, народ в принципе способен назначать, по своему выбору, лиц на посты в органах власти (депутатов законодательного органа или президента), тогда он исполняет функцию, действительно принадлежащую к природе власти. Назначать на государственные посты — это, да, ее прерогатива. И при определенной оптике это то, что называется «неубиваемый аргумент» в пользу того, что демократия — это власть.
Аргументация восстанавливается
Но — только с применением подразумеваемой оптики. Ее настройка, фокусировка (ближе — дальше, чаще всего «дальше»), применяемые эмоциональные светофильтры позволяют использующим ее наблюдателям (в непосредственно выборном и в общем смысле) утверждать, что где-то некие акторы исключаются из числа имеющих в момент выборов пассивное избирательное право (то есть лишаются возможности попасть в избирательные списки), а где-то у всех акторов есть в допуске к этим избирательным спискам карт-бланш.
А если мы рассуждаем нейтрально, принимая во внимание доступную эмпирику, то приходим к выводу, что в любой стране, где проводятся выборы, действуют те или иные механизмы сужения круга участников выборов до круга лиц, приемлемого для институтов власти. И это принципиальный момент.
Власть — это действие сверху вниз, управляющие сигналы, направленные с высшего уровня иерархии к нижестоящим уровням. Между тем демократия, при любых ее определениях, подразумевает сигналы, направленные снизу вверх
А дальше можно начать перечислять пункты большого списка способов, которыми институциональные нормы, а в оперативном режиме те же институты власти и так или иначе связанные с ними организации влияют как на отбор кандидатов, так и на исход голосований.
Да, везде, как говорится, есть своя специфика. Но главное — то, что эта специфика не нарушает теоретической строгости рассуждения в его главных пунктах: власть и практически осуществимая (представительная) демократия различны по своей природе; в период перед выборами во всех странах работают как кодифицированные, так и некодифицированные нормы и практики, служащие в качестве установленных институтами власти фильтров для отбора кандидатов на кооптацию в институты власти. Тем самым власть принимает активное, порой заметное, порой незаметное участие в назначении народом этих кандидатов. И степень этого участия обычно столь высока, что природа высшей власти как субъекта, обладающего исключительным правом на ее осуществление (никогда сущностно не передающего ее на нижние этажи иерархии), не нарушается.
Уместно вспомнить высказывание одного из коллег по нашей редакции Юрия Полунина, математика, много занимавшегося и политологией, заметившего как-то, что контур обратной связи (демократия) не может быть сильнее контура управления (власти).
Есть страны, называющие себя «демократиями», то есть с оговорками, если по этому поводу возникает диспут, но отождествляющие с ней свои институты власти и гордящиеся своими выборными традициями, в том числе свободным участием в выборах всех — а там пусть решит избиратель. В одной из наиболее громко заявляющих о себе таким образом стран одного из главных претендентов на пост президента сначала долго пытались снять с выборов через судебные процедуры, причем эта цель и то, что за ней стоит действующая власть, почти не скрывались.
А когда это не получилось, того самого претендента, к тому времени уже оставшемуся с действующим (и переизбиравшимся) президентом один на один, не убили лишь по чистой случайности (и при помощи свыше, скажет он). Выделенная ему властью охрана просмотрела покушавшегося при обстоятельствах, когда это можно было сделать либо по вопиющей халатности, на таком уровне профессионализма весьма сомнительной, либо получив команду не обеспечивать безопасность.
Любое непредвзятое исследование впредь будет считать это событие, случившееся в минувшем году во время выборов в США с кандидатом Трампом, противостоявшим президенту Байдену, предельно ярким примером того, как власть этой страны использует, назовем это так, «различные методы влияния на выборный процесс». И конечно, как пример такого «влияния» в принципе.
Обратившись к предметам менее ярким, хотя далеко и не рядовым, сделаем еще одну оговорку по поводу демократии и природы власти и укажем на такой случай, когда они все-таки практически совпадают. Это референдум, то есть всеобщее голосование по ограниченному кругу имеющих особенное значение вопросов.
В рамках этой процедуры управляющий сигнал действительно идет снизу вверх. Это происходит в мире очень редко, чаще всего в Швейцарии, а в 2020 году референдум, напомним, был в нашей стране. И это действительно ситуация, когда именно управляющий, а не просто информационный сигнал исходит от народа.
Природа власти при этом не меняется. Власть просто приостанавливает, на короткое время и в очень узком диапазоне, который определяет сама (имеются в виду выносимые на референдум вопросы), свое действие.
«Демократии», то есть «метрополии»
Концептуальная «упертость», без которой нельзя выдержать логику, принуждает рассуждать так, что может показаться, будто между очень разными внешне политическими феноменами (странами) вовсе нет никакой разницы. По крайней мере, что автор именно это хочет доказать.
Конечно, жизнь людей очень сильно меняется в зависимости от конституционных изменений. Это видно на многочисленных примерах из минувшего века, когда с небывалой прежде частотой и географической широтой, с огромной амплитудой по вариациям уровня государственного принуждения стали меняться и появляться совершенно новые формы государственного устройства.
Уже само по себе это многообразие побуждает вновь искать интуитивно предполагаемое единство. И оно обнаруживается в цельности и автономности природы государственной власти.
Но рассуждения о политических категориях, как правило, и дискурсивно обусловлены, и не удерживаются в рамках отвлеченных задач. А понятие демократии давно попало в фокус борьбы самого напряженного свойства.
Международная конкуренция включает в себя и конкуренцию брендов политических систем (то есть тех практик, которые могут сильно меняться вне зависимости от формы правления). Не конкуренцию систем как таковых, потому что, если напитком Ц вы действительно можете вытеснить на магазинной полке напиток Z, то конкретную политическую систему в другую страну не привезешь. Это невозможно даже в колониях.
Но наборы понятий и образов, которыми брендируют себя активные в международно-политическом отношении страны, порой весьма экспансивно продвигаются ими вовне. С какими целями и результатами? Например, подчинение, когда некой стране умелой рекламой навязывают стремление сделаться похожей на рекламируемый политический бренд. Или, еще хуже, разрушения, когда такое копирование заходит так далеко, что собственная политическая система начинает разрушаться. Фантом, или химера, замещает собой реальность.
Помимо «фирменных» политических брендов, закономерно раскрашенных в цвета национальных флагов, на международно-политическом уровне продвигается и зонтичный бренд «демократий» как самоназвания для группы стран. На него эта группа выдает порой франшизы, с платой, обычно ресурсами, плюс территориями под военные базы. Франшизы могут быть и отозваны — когда страны вспоминают о своей независимости.
Легко заметить, что многие государства, ныне называемые «демократиями», прежде именовались «метрополиями». Это было, по крайней мере, честно. Соответственно, нынешние практики и тех, и прочих стран под этим зонтичным брендом есть не что иное, как неоколониализм.
Сейчас явным образом началось движение против неоколониализма, как полвека с лишним назад против колониализма. Россия, как и тогда, активно поддерживает это движение, тем более активно и в чем-то даже яростно, что, в отличие от предыдущей ситуации, в конце прошлого века сама чуть было не попала в неоколониальные сети.
Но затем решила, что пора и власть показать.