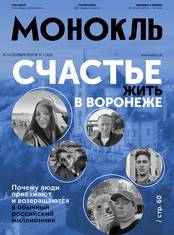Четыреста километров от географического Северного полюса — и ноль возможностей влиять на выбор маршрута. В таких условиях сейчас находятся российские полярники, которые изучают Северный Ледовитый океан. Экспедиция «Северный полюс — 42», организованная Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ), как и десятки лет назад, работает на дрейфующей льдине, только вместо палаточного лагеря базой для ученых служит уникальное экспедиционное судно — вмороженная в лед платформа, способная выдерживать колоссальное сжатие льдов. Для этого в корпус судна вмонтированы специальные датчики, фиксирующие процесс.
Сменить романтику палаток на комфорт кают ученых вынудило глобальное потепление, в первую очередь критическое состояние льда в арктических водах — его подвижки, трещины и разрывы. Из-за этого на время пришлось приостановить многолетнюю программу дрейфующих экспедиций «Северный полюс» (СП), запущенную еще в 1937 году. Тогда четверка советских ученых — Иван Папанин, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и Петр Ширшов — сформировала классический образ полярника, человека, который живет и работает в палатке на льдине, дрейфующей в океане по воле течений и ветров. Каждой новой экспедиции присваивалось название «Северный полюс» и соответствующий порядковый номер. За 75 лет было создано 40 станций, которые выполняли комплексные исследования в области океанологии, метеорологии и биологии моря, отслеживали динамику изменения площади льдов, изучали ионосферное и магнитное поля Земли.
Но к 2012 году глобальное потепление в Арктике проявилось в полную силу: площадь льдов в результате летнего таяния сократилась до 3,5 млн квадратных километров (при норме 5,9 млн). В тот год регион потерял рекордное количество снега и льда. В таких условиях создание традиционных постов СП в Северном Ледовитом океане было признано небезопасным. Программа была поставлена на паузу, которая продлилась девять лет.
В результате сложилась крайне неприятная для науки ситуация: регулярных исследований в Арктике в течение всего этого времени фактически не проводилось. Непродолжительные экспедиции не позволяли получить необходимых данных для составления картины климатических изменений. Стало очевидно и то, что заменить «живые» наблюдения на полюсах пока невозможно. Даже орбитальные спутники не справляются с этой задачей: они позволяют видеть распределение льда, но не дают ответа на вопросы о его структуре, подводных течениях, морской флоре и фауне, химическом составе воды, донных рельефах и многом другом.
Льдина — лучший форпост
Дрейфующая полярная станция может попасть в те районы, где установить измерительное оборудование без прямого участия человека крайне проблематично. Поэтому в конце концов программу «Северный полюс» возобновили — но уже на новом технологическом уровне и с учетом изменившихся природных условий. Для этого в 2020 году усилиями Росгидромета, ААНИИ, КБ «Вымпел» и Адмиралтейских верфей была спроектирована и построена ледостойкая платформа, которая стала для полярников одновременно и транспортом, и домом, и исследовательским центром, и даже огромным измерительным прибором. «Мы позаботились о том, чтобы на борту “Северного полюса” присутствовало современное оборудование для анализа воды и грунта, изучения морской биологии и экологии. Это позволяет ученым проводить широкий спектр анализов и исследований прямо на месте, что кардинально сокращает время между сбором образцов и получением результатов», — рассказывает директор ААНИИ Александр Макаров.
Впервые обновленная экспедиция СП отправилась исследовать океан в сентябре 2022 года и вернулась в Мурманск в мае 2024-го. А уже в сентябре того же года началась работа СП-42 — сейчас она находится в Западном полушарии примерно в 400 километрах от Северного полюса. Недостатка в ученых, желающих на несколько месяцев уйти в арктический дрейф, не было — причем не только среди мужчин, но и среди женщин.
Научная программа нынешней экспедиции включает более 50 исследований по нескольким направлениям: состояние атмосферы, морского льда, океанография, геохимия (химический анализ проб воды, льда, донных осадков и атмосферы), гидробиология (изучение флоры и фауны), геология морского дна, геофизика (изучение ионосферы) и др. Попутно проверяются и прочностные характеристики платформы в условиях переменных нагрузок, создаваемых льдами.
Платформа имеет длину 83,1 метра, водоизмещение около 10 390 тонн и автономность по запасам топлива около двух лет. Она способна развивать скорость до 10 узлов и самостоятельно достигает необходимого места по воде или тонкому льду. Льдину, в которую судно в итоге вмораживается, выбирают по спутниковым наблюдениям: площадка должна быть прочной и достаточно большой. Так, базой для СП-42 стало ледовое поле площадью 165 квадратных километров. На его поверхности рядом с платформой ученые разбили научный лагерь: выгрузили оборудование и транспорт, чтобы проводить исследования, находясь непосредственно на льду.
Всего на борту имеется 17 лабораторий, приспособленных для наблюдений за гравитационным полем Земли, озоновым слоем и атмосферой, для изучения биологии, физики льда. Есть и специальная техника для анализа рельефа океанского дна, которое сегодня исследовано всего на 20%.
Маршрут СП-42 оказался особенно удачным: платформу несет через труднодоступные районы Северного Ледовитого океана — туда, где по сравнению с остальными участками акватории было собрано минимальное количество данных.
«За первые десять с лишним месяцев дрейфа мы получили десятки гигабайт информации. Ее еще предстоит обработать в береговых условиях: осмыслить и сопоставить с уже имеющейся. Например, одних только срочных метеорологических наблюдений с оперативной передачей данных в ААНИИ мы выполнили свыше двух тысяч. Взяты пробы грунта в районе подводного хребта Менделеева, по которому раньше вообще не было никаких геологических сведений. То же самое относится к гидрологическим и гидрохимическим данным, полученным в котловине Макарова», — рассказывает один из участников миссии, заместитель начальника по научной работе дрейфующей станции «Северный полюс — 42» Владимир Иванов.
Наибольшее внимание обычно привлекают измерения средней температуры воздуха и толщины льда. Такая информация уже собрана: средняя приземная температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по июнь 2025-го достигла −16,2 °С, что совпадает с показателями последних десяти лет.
«В 1990-е годы изменения фиксировались незначительные, но в начале 2000-х начались резкие трансформации. За семь лет площадь арктического морского льда на пике сезонного минимума, в сентябре, упала на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом за все время регулярных спутниковых наблюдений — с 1979 года. Абсолютный минимум был зарегистрирован в 2007 году. По климатическим меркам семь лет — это мгновение. Ученые были удивлены: математические модели ничего подобного не предсказывали, подобная ситуация прогнозировалась только на 2050 год. В 2012-м площадь льда еще немного сократилась. И, согласно моделям, должна была уменьшаться дальше. Однако этого не происходит. Так что сейчас летняя площадь льда хоть и варьируется год от года, но в целом сохраняется на новом среднем уровне — примерно на 20–25 процентов меньше наблюдавшегося в 1979–2000 годах. Правда, при этом мы видим, что толщина льда постепенно уменьшается. Почему? Пока делать выводы рано. Гипотез много, их нужно проверять», — говорит Владимир Иванов.
С одной стороны, льда в арктическом бассейне действительно стало меньше, а с другой — скорость его образования выросла. Почему так происходит? Ученые пытаются это разгадать
Средняя толщина льда к окончанию холодного сезона в мае (когда достигается предельная годовая величина) сейчас составляет 185 ± 2 сантиметра. Эти данные расходятся с информацией, полученной в ходе туристических рейсов атомных ледоколов к Северному полюсу в период с 2007 по 2024 год: тогда замеры показали, что средняя толщина льда по маршруту от Земли Франца Иосифа к полюсу равняется 123 ± 6 сантиметров.
«Принимая во внимание, что маршрут любого судна, включая и атомоход, прокладывается через зоны с наименьшей сплоченностью и толщиной льда, различие в 60 сантиметров с данными СП-42, вероятнее всего, показывает не реальное увеличение толщины льда в 2024–2025 годах, а разницу между зонами более тонкого и более толстого льда. Но этот вопрос требует дополнительного изучения», — отмечает заместитель начальника СП-42.
В зимний сезон 2024/25 года над Арктикой доминировал так называемый циклонический режим циркуляции атмосферы, при котором усиливается вынос льдов из евразийской Арктики в пролив Фрама, отделяющий Гренландию от Шпицбергена. В первой четверти нынешнего века такой циркуляционный режим наблюдался лишь несколько раз; возможно, это свидетельствует об аномальном характере текущих глобальных атмосферных процессов. Температура глубинных вод атлантического происхождения в бассейне Макарова сохраняет значения, характерные для периода до начала потепления 2000-х годов на границе Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики, что говорит о малой чувствительности гидрологического режима в глубоководных котловинах амеразийской Арктики к внешним воздействиям.
Как отмечает Александр Макаров, ученые уже не сомневаются, что глобальное потепление — это реальность и что в Арктике средние температуры растут значительно быстрее, чем в целом по планете. Но единодушия по поводу того, как этот процесс повлияет на работу сложных природных механизмов, до сих пор нет. Например, эксперты из Гётеборгского университета недавно публично заявили, что Арктика может полностью освободиться ото льда уже ближайшие три года. Это приведет к подъему уровня Мирового океана и прочим катаклизмам, которые обернутся многочисленными бедствиями для людей, причем предсказуемое затопление территорий в регионе будет не самым страшным последствием.
Российские специалисты, наблюдающие за климатическими изменениями, более осторожны в прогнозах. «С одной стороны, льда в арктическом бассейне действительно стало меньше, а с другой — скорость его образования выросла. Почему так происходит? Мы пытаемся это понять», — рассуждает директор ААНИИ. По его словам, чистую воду Арктики мы если и увидим, то лишь в летний период, а это всего несколько недель в году. Зимой лед, как и раньше, будет сковывать значительную часть Северного Ледовитого океана.
Не стоит забывать, что зима за Полярным кругом длится в три раза дольше, чем в умеренных широтах. И то, что в последние полвека лед в сентябре стал появляться в акваториях примерно на неделю позже, чем раньше, вряд ли можно считать серьезным изменением.
СП для СМП
Исследования в Арктике были и остаются критически важными для России: 65% территории нашей страны покрыто вечной (или, как теперь говорят, многолетней) мерзлотой, почти 40 тыс. километров побережья приходятся на береговую черту Северного Ледовитого океана.
Здесь, конечно, не рай: полярные ночи, низкие температуры, нечеловечески трудные условия жизни. Но при этом Арктика богата ресурсами и потому считается чрезвычайно интересным регионом, из-за которого, как часто пишут мировые СМИ, в будущем могут возникнуть серьезные конфликты между ведущими державами. Сегодня стратегические программы в Арктике помимо России, США, Канады, Дании, Норвегии имеют и весьма далекие от Заполярья страны: Китай, Япония, Индия, Франция, Турция, Бразилия и др. Причем нельзя сказать, что все ограничивается закулисными играми и громкими заявлениями политических лидеров о необходимости раздела сфер влияния в Арктике, — предпринимаются и конкретные шаги. Так, в 2025 году стартует миссия французского фонда Tara Ocean — запуск дрейфующей станции Tara Polar. Игнорируя российскую платформу СП, французы называют свою станцию «первой в мире мобильной исследовательской базой, способной работать в экстремальных условиях полярной ночи при температурах до −50 °C». Проект рассчитан на 22 года, его заявленная цель — изучение климата в верхних широтах, процессов таяния льдов и изменения экосистем, но при этом президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны НАТО активизироваться в арктической зоне.
В случае с Арктикой игра стоит свеч даже более, чем с проектами освоения Луны. В 2019 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ подсчитало, что одно рабочее место в Заполярье создает до 14 новых мест по всей стране. Каждый государственный рубль, вложенный в этот регион, может привлечь до 15 рублей инвестиций из внебюджетных источников.
Сегодня главный практический бонус России в Арктике, который также находится в центре внимания ученых экспедиции «Северный полюс — 42», — Северный морской путь (СМП). Изучение и освоение СМП началось еще 500 лет назад, а регулярное движение грузов по этой водной артерии открылось в конце 1930-х. Текущая цель — запустить здесь круглогодичную навигацию. В 2024 году объем грузоперевозок по СМП стал рекордным: почти 37,9 млн тонн, на 1,6 млн больше, чем за аналогичный период 2023-го. Количество транзитных рейсов (92) и объем транзитных перевозок (более 3 млн тонн) в прошлом году также оказались рекордными. Было рассмотрено наибольшее за все время количество заявок — 1312 — на плавание в акватории СМП. Однако потенциал маршрута гораздо выше: в планах РФ к 2034 году увеличить объем грузоперевозок по СМП до 157 млн тонн.
Кстати, сейчас это кратчайший путь из Юго-Восточной Азии в Европу. К примеру, от японской Йокогамы до голландского Роттердама по СМП всего 7,3 тыс. морских миль. А вот если судно идет между этими же портами через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря, расстояние увеличится до 11,2 тыс. морских миль, что эквивалентно почти двум неделям плавания.
В настоящее время по СМП курсируют ледоколы. И вопрос, будет ли лед в Северном Ледовитом океане стремительно таять, становится все более острым. Необходимо понять, сохранит ли актуальность уже принятая в РФ программа обновления ледокольного флота, по которой в стране должно появиться минимум шесть новых судов такого класса.
По словам спецпредставителя госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместителя председателя Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимира Панова, на данный момент проработано два этапа финансово-экономической модели СМП. Первый условно называют «текущим»: уже запущенная круглогодичная навигация в Карском море с дальнейшей перегрузкой в Мурманске. Вторым этапом станет круглогодичная навигация в восточном секторе СМП. При этом в обоих случаях предполагается использование ледоколов.
Исследования ученых ААНИИ, проведенные в том числе в рамках экспедиций «Северный полюс», не подтверждают апокалиптические прогнозы о полном таянии льдов в ближайшие годы на всем протяжении Северного морского пути. По словам Александра Макарова, лед в Северном Ледовитом океане в зимний период будет оставаться и усложнять навигацию. Летом же даже в самый теплый год акватория СМП свободна от торосов лишь с августа по октябрь.
«Ледовая обстановка на трассе Северного морского пути остается крайне сложной и изменчивой. Это требует от судовладельцев повышенного внимания к гидрометеорологической информации и строгого соблюдения рекомендаций специалистов, — комментирует Александр Макаров. — Мы делаем все возможное для обеспечения надежной навигации: используем данные, полученные как со спутников, так и непосредственно с судов, работающих в Арктике. Это позволяет оперативно корректировать прогнозы и предоставлять актуальную информацию о ледовой обстановке на всем протяжении трассы. Ну а долговременный анализ мы можем делать благодаря работе станций “Северный полюс”. Десять лет назад этот проект, задуманный в стенах ААНИИ, казался чистейшей фантастикой. И тем не менее он был реализован и подтвердил свою целесообразность — причем не только с научной, но и с экономической стороны. СП обеспечит нас актуальными данными об Арктике на десятки лет и позволит укрепить научные позиции России в высоких широтах».